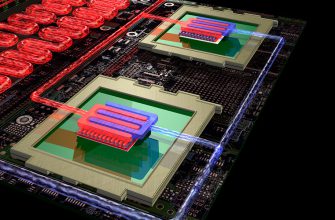На российские экраны выходит фильм «Миннесота» Андрея Прошкина, удостоенный Гран-при фестиваля «Амурская осень».
Сценарий написал Александр Миндадзе, поэтому история двух братьев — хоккейных звезд провинциального городка — развернулась притчей о времени. Контракт в заокеанскую Миннесоту предлагают только младшему из братьев (Антон Пампушный). Значит, только он и катапультируется из вечно пьяного мухосранска в заокеанский рай с бассейном, мартини и вечно живым Майклом Джексоном? Что же будет со старшим Михаилом (Сергей Горобченко), который ездит и живет без тормозов, любит напропалую, играет до остановки сердца? Предательство-патриотизм-голос крови-родина-чужбина. Переключение с зеленого на красный без желтого предупреждающего… Мерцающие смыслы — свойство текстов Миндадзе, творца многосложных метафор, в транскрипции Андрея Прошкина — инженера сгущенной реальности — неожиданно обретают материальную плотность. Киносочинение вышло не без изъянов, но совершенно живое, мужское, напитанное бешеной энергией…
— Насколько режиссура наследственная болезнь?
— Думаю, дело не в генах. Не менее существенен ближний круг. Интерес и восхищение вызывали люди кино. Рерберг, Смоктуновский… Собирались в нашей маленькой квартирке. Ужинали, выпивали. Потом стол складывали… чтобы ноги вытянуть. Помню, жарко обсуждали «Гамлета». Вдруг Рерберг замолчал и сказал, что «Гамлета» он бы снял. Как это было сказано… Серьезно. И в то же время по-мальчишески. С пижонством. Ведь мир кино обладает феноменальным обаянием, магнетизмом. Привлекает даже больше, чем профессия. Думаю, не сложилось бы с режиссурой, все равно пытался хоть тушкой, хоть чучелом проникнуть и остаться. Ну и, конечно, картины отца, его мировоззрение воздействовало.
— Какой фильм Прошкина-старшего тебе наиболее близок?
— Конечно же, «Холодное лето 53-го», но и «Увидеть Париж и умереть», «Чудо». И еще «Трио», потому что мне всегда нравились миндадзевско-кортасаровские мотивы, тема второго шанса. Гипотеза второй жизни. Или игры, которая превращается в жизнь.
— Ты и актрису Машу Звонареву из «Трио» взял по наследству в свои «Игры мотыльков».
— Да. Она замечательная актриса. Редкое сочетание достоверности и женского обаяния, огромная амплитуда актерских возможностей.
— Ты учился у Хуциева. Что в этой школе приобрел ценного?
— Главное в хуциевской школе — общение. Его девиз: профессия, в общем, не хитрая. Научить и научиться ремеслу можно. Цель иная — создать нечто художественное. А как научить художественному отношению к жизни? Это была дружная симпатичная мастерская. Талантливые сокурсники. К сожалению, так сложилось, что снимаю только я.
— Вам выпало закончить курсы 90-е. Когда и прокат, и кинематограф впали в летаргический сон. Ведь и тебе не сразу дали самостоятельную постановку. Ты работал вторым режиссером. Мне кажется, это правильный путь в профессию.
— На курсах нам дали сто метров черно-белой пленки. Гена Островский придумал какую-то завиральную историю. Я долго мучился, два дня снимал. А когда узнал, что этот так называемый фильм на курсах кому-то показали, пробрался и выкрал коробки с пленкой. Немедленно уничтожил, потому что это было за гранью добра и зла. Путь через работу на площадке распространен во всем мире. Я был вторым режиссером у Карена Шахназарова на «Ядах…», «Снах», «Американской дочери». Школа Карена — суровая. Он требователен. Не знаю, каким я был вторым режиссером. Но теперь в своих «вторых» всегда разочаровываюсь. Только и слышу: «Этим я не должен заниматься. Этого я не умею». Мне было интересно, брался за все с щенячьим восторгом. Подобная работа — лучшая из школ. На курсах ты смотришь много фильмов. Умные люди рассказывают тебе, чем они хороши. Это теория. На площадке видишь, из какого сора все произрастает. Когда сам выходишь на съемку, знаешь, за какие нитки дергать. Пусть даже не всегда получается.
— Чем сценарий Александра Миндадзе тебя забрал?
— Прежде всего необъяснимой энергией. В этой картине в неразрывной связи существуют два человека. Один из них Миша, существо вроде без мозгов, но и без кожи. Воспринимающий мир оголенным нервом. Его заносит на поворотах. Рядом брат, воспринимающий мир правильно, рационально. Пытающийся встраиваться, при этом лишенный эмоционального ощущения жизни. Понимающий все башкой, вне человеческих связей. Сама по себе эта с�ибка мироощущений — мощная, азартная. И основная тема: кого сегодня выбирает время — актуальна.
— Учитывая метафоричность текстов Миндадзе, в какой-то момент я могла представить себе, что два брата — суть полярные стороны современного человека. Не случайно они любят одних женщин, мечтают о Миннесоте, играют в одну игру.
— Я сам порой ловлю себя на том, что во мне борются Горобченко и Пампушный. Вся эта многосложность и вариативность восприятия заложена в сценарии. Меня притянула ситуация выбора, в которую поставлены герои. Драматический конфликт, не имеющий простого разрешения. Масса хорошего кино построена именно на таких коллизиях с неоднозначным разрешением. Вообще я страшно люблю Миндадзе. Помню шок, когда еще мальчишкой прочел его «Плюмбум…» в «Искусстве кино».
— Неужели не было страха «браться за классика». Тандем Миндадзе—Абдрашитов в истории отечественного кино можно уподобить храмовому строительству. А тут ты со своим новоделом. Как посмел?
— Я к подобным сравнениям привык. Существую под сенью папы. Если честно, проблема была в другом. Сценарий Миндадзе требует определенного ключа. Тональности, полярной настроению моих предыдущих картин. Этого я страшно боялся. Потому что актерская органика здесь сдвинута с рельсов. До сих пор смотрю вырванные из контекста кадры: боже мой, какой кошмар! Как чудовищно играют! Когда целая картина в целом — другое ощущение… Иногда.
— В чем заключен этот «формальный подход к игре актеров»?
— Это история дикого драйва, который людей хватает за шкирку, куда-то тянет, ведет. Они уже не могут остановиться. Такая биология, требующая выхода, а выхода нет. И тут — бац, перед тобой приоткрывают узкую дверцу.
— Но для выхода этой энергии у героев есть силовой хоккей. Как образно объясняет Горобченко: «Мужицкий мир потного, вонючего закулисья. Харизматическая форма выражения современного русского стремления к успеху».
— Ну да, хоккей — образ того, как им надо жить. Здесь. На этой понятной площадке. И вдруг появляется Покупатель, искуситель, который говорит: все можно изменить. Для этого требуется немногое: изменить себе. Это энергетическая история, требовавшая особого подхода. Она не виделась в психологическом реализме, нормальном ритме. Здесь все сплюсовано, сдвинуто. Острота состояния актеров, ритм картины. Не то чтобы бешеный — ломаный. Монтировали более четырех месяцев, притом что картина дольно простая, не длинная. Миндадзе сказал мне: «Это такая подиумная история». Все немного приподнято. Это ощущение котурн есть в ремарках. Между прочим, большинство артистов ничего в сценарии не поняли. Включая самых умных. Виталик Хаев, сыгравший заезжего купца, предположил: «Он же грузин. Наверное, пишет на своем грузинском, потом переводят». Текст пронизан инверсиями, диалоги странные. Это тоже способ энергетического письма. Вот задача, которую решать страшно и интересно.
— Сценарии Миндадзе — всегда притчи о времени, которое сфокусировано, стянуто в узел конфликта.
— Для меня эта картина о том, какого героя выбирает сегодня время. И можно ли, будучи на первый взгляд стопроцентно спортивной историей, так точно выразить сущностные вопросы современного бытия.
— Любопытно, что хоккей снят вне спортивной интриги, соперничества. Будто изнутри. Крупные планы, жесткие сцепки. Напряжение и борьба. Более всего запомнился первый кадр. Герои приклеиваются в противоборстве лицом к стеклянному бортику. А зрителю кажется, что смотрит на них сквозь исцарапанный коньками лед. Возникает визуальный образ картины.
— Великая вещь объектив 300, очень длинный. Из-за этого сохранена фактура царапин. Мы снимали через защитное стекло ледовой площадки. Но знаешь, мне кажется, это стекло похоже и на аквариум, внутри которого носятся наши хоккеисты.
— Любопытно, что чуть ли не во всех картинах вашего поколения, мощно выступившего на последнем «Кинотавре», действие разворачивается в захолустье. Помнишь, еще несколько лет назад вопрошали: когда же наше кино выйдет за пределы Садового кольца?
— Теперь недоумеваете: «Когда вернется?». У городка, в котором происходит действие, нет названия. Мы лишили его конкретных примет. Просто провинция. Почему? Сегодня драматургия вообще сдвигается в сторону, в глубинку, где меньше комфорта, больше борьбы. На частном проще выразить общие идеи. Хотя признаюсь тебе, надоело снимать про одноклеточных героев, хочется сложных многокрасочных персонажей
— Вот что любопытно. В твоем дебюте «Спартак и Калашников» действовали бездомные мальчишки. Герой «Игры мотыльков» — юный провинциальный музыкант, стоящий на пороге чужой и враждебной взрослой жизни. Персонажи «Солдатского декамерона» служат в армии. Братья из «Миннесоты» уже совершенно определились в своем хоккейном призвании. Что, Андрюш, взрослеешь вместе с героями?
— Да, теперь придется жениться на экране, родить детей… Видимо, сидит во мне инфантильность. Растем… Но если серьезно, дело в предложении. Сразу после «Спартака…» я долго отбивался от попыток превратить меня в режиссера детского кино. Потому как не очень его чувствую. Однако убежден, что молодые чувствуют острее. Градус восприятия выше, чем в зрелом возрасте.
— Ты снимаешь о современности. Всегда на тему, легко ли быть молодым…
— Признаюсь тебе, с ужасом понял, что не так уж и молод. Но ведь именно молодость — время вопросов. Открытых финалов. Время выбора. А разве сам выбор не является интереснейшим экзистенциальным сюжетом? Не важно — герою 15 или 20 лет, в любом случае говоришь о себе.
— Ну хорошо, а вообще, легко ли быть? Выведем за скобки материальные трудности, определяющие сегодня запуск проекта. Легко ли режиссеру быть адекватным времени, тому, что происходит? Знаю, что читаешь ты в основном «Спорт-экспресс». Разве режиссеру не необходимо под собою «чуять страну»?
— Хоть и хочешь следовать совету профессора Преображенского, не читать до обеда газет… Не спасает. Мне не нравится то, что происходит. Вот отчего и возникло целое направление в отечественном кино, общее по внутреннему пессимистическому настрою.
— Особенно концентрированно это настроение выразилось на последнем «Кинотавре». Когда чуть ли не все конкурсные картины источали обостренное чувство распада, заброшенность, ненужность маленьких людей, живущих на необъятном пространстве одной восьмой части суши…
— Прежде всего разные картины режиссеров моего поколения связывает ощущение распада человеческих связей. Можно говорить шире — неуправляемого дробления общества на непересекаемые сегменты. В том числе это дробление проявляется в том, что и наши кинематографические крики, за исключением раскритиковавшего нас Станислава Говорухина, никто не слышит. Прежде всего зритель. Для меня это тяжелое испытание. Мы превращаемся в «кино для своих», совершенно этого не желая.
— Про зрителя — разговор отдельный. Но нет ли и вашей вины, системной ошибки в том, что зритель не смотрит ваши картины?
— Да, зритель приходит в зал и ждет, чтобы кино его занимало, вело за собой. И есть такие глубокие, захватывающие киноистории. Но, к примеру, кино любимого мною Бори Хлебникова требует другой степени концентрации. Оно рассчитано на медленное погружение. Оно требует привычки. Я с упоением смотрю кино, которое другие называют скучным. Хотя, возможно, правда в том, что наши игры с метафорами, со стилем… Идущие в ущерб лежащей на первом плане занимательности, почти никому сегодня не нужны. Странно, ведь и картина Леры Гай-Германики собрала мало зрителей. А ведь она невероятно интересна.
— Как и «Миннесота», самая зрительская из всех авторских картин нынешнего сезона.
— Но ведь и отечественные блокбастеры я, за редчайшим исключением, смотреть не в состоянии. Кажется, что общество пятится под напором агрессивной примитивизации, разложения сложного на азы. И мы как-то «не в ногу». Хотя я не против комедий, главное, чтобы про людей, и характеры — не одномерные. Тут с одним продюсером разговаривал: «Вашу эту многомерность засуньте в одно место, работайте как люди». Это противно. Но объявлять нас какой-то волной — преувеличение. Мы такие разные. Точно сказал Боря Хлебников. Такие волны образуются на гребне сильного социального толчка, вызывающего к себе резкое отношение. Отторжение или приятие. Война во Вьетнаме, разоблачение культа личности… Для нас сильной социальной встряской стал распад СССР. Смена формаций, повлекшая смену человеческих отношений. Слом структуры общества и отдельного человека. Его взаимоотношения с миром. И долгий реверс этих видимых и невидимых пролетов и взрывов. С этой точки зрения мы скорее не новая российская волна, а последняя советская. Может, следом придет другое поколение, более адекватное времени. Выросшее на компьютерных играх и «властелинах колец». Но мне жалко, что истории про людей, основанные конфликтах отношений, сегодня не актуальны.
Беседовала
Лариса Малюкова